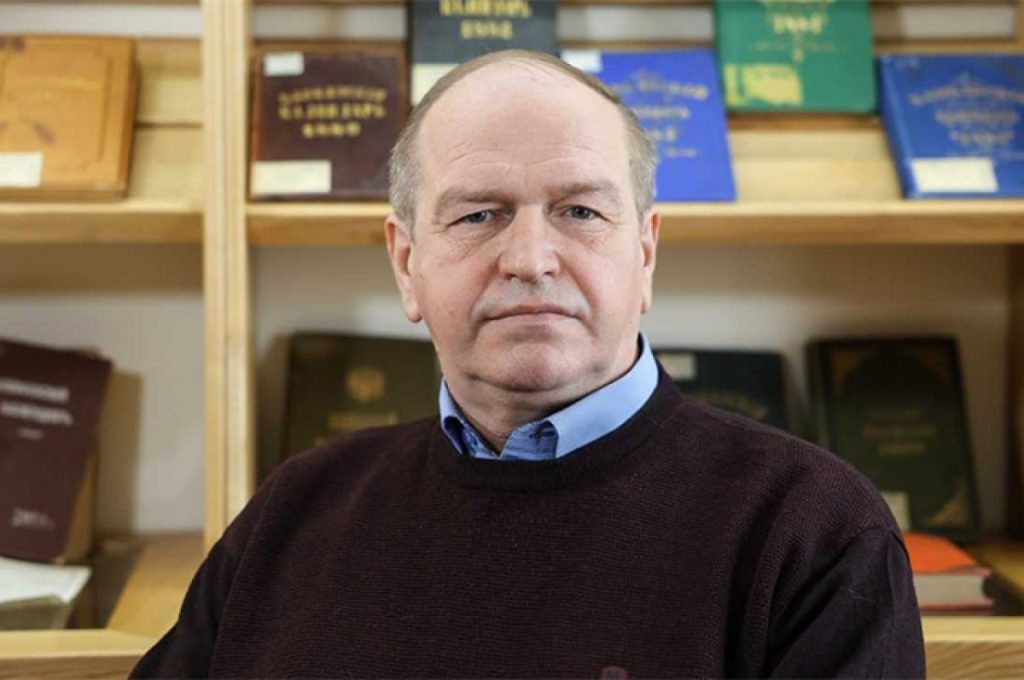
Профессор-филолог, выпускник Пятигорского государственного университета, рассказал о своей службе в зоне СВО
Сергей Гусаренко – профессор филологии Северо-Кавказского федерального университета. Полгода назад он вернулся из зоны СВО, где пробыл 6 месяцев, награждён медалью «За храбрость» II степени. О самых ярких впечатлениях и о том, что он вынес из этого непростого опыта, преподаватель рассказал в беседе с корреспондентом aif.ru.
«Дома неделю говорил на том языке»
Юлия Борта, aif.ru: – Сергей Викторович, недавно на встрече со студентами президент сказал, что настоящую элиту России нужно формировать из бойцов СВО. Вы уже ощущаете принадлежность к новой формации?
Сергей Гусаренко: – Я бы сказал по-другому. После возвращения появилось чувство, что я, хоть, возможно, и не до конца, но выполнил долг перед своей страной. Не сидел, не ждал, когда всё разрешится само собой. Для меня это было бы невыносимо. Теперь я имею право сказать: я свой, я там был. И дальше вести свою педагогическую деятельность, оказывать как можно более положительное влияние на своих подопечных в воспитательном плане. Ребята, которые прошли зону боевых действий, стали новой элитой не тогда, когда получили статус участников СВО, а когда приняли решение туда идти. Это другие люди, и президент абсолютно прав, говоря, что в их руки можно передать Россию.
– Говорят, что человек, вернувшийся оттуда, сильно меняется.
– Может быть, кто-то менялся. Я такого про себя не заметил. Хотя жена говорит, что первую неделю после возвращения разговаривал на специфическом языке. Но это издержки профессии. На передовой это нормально. А в отношении привычек, убеждений я остался прежним. Да, больше узнал, больше испытал. Но человека шестидесяти лет вряд ли что-то может серьёзно изменить. Единственное, что стало легче воспринимать, к сожалению, это человеческие потери.
Дети Донбасса рано повзрослели. Мальчишкам 12-13 лет, а рассуждают они, как взрослые мужики.
Добро с гранатомётом
– Изменился ли ваш взгляд на образование и воспитание?
– Связать мой опыт с воспитанием детей вряд ли можно. Там были в основном зрелые люди. Но у меня есть что сказать по этому поводу. Я частенько слышу, что надо разделять образование и воспитание. Хотя вся советская педагогика, которая воспитывала совсем не плохих людей, говорит, что так делать безграмотно. Нельзя на одном уроке говорить, каким надо быть хорошим, а на всех остальных давать только предмет, без лишних эмоций.
Всякое достижение в любой из областей наук должно ставиться на службу стране, её народу. Как говорил английский поэт и мыслитель Джон Донн, человек не остров в океане, не сам по себе, а часть материка. И если где-то часть материка размывается и исчезает, тогда не спрашивай, по ком звонит колокол, – это уже Хэмингуэй до нас донёс от Донна. Так вот, надо молодёжи доносить, что всё происходящее в стране – наше общее. В дальнейшей жизни ты должен быть готов если не идти на войну, то хотя бы что-то делать ради своей страны, а не только работать на себя.
У нас с середины 1990-х был взят курс на западные модели образования. После этого вырастают люди, голосующие за президентов, которых мы сейчас видим на Западе. Одна Европа чего стоит со всеми её новыми ценностями. В образовании всё должно работать на формирование порядочного человека-патриота.
– А как его формировать?
– Личным примером. Не только преподавателя, но и любого начальника. Сегодня мы видим лишь отдельные примеры, когда руководители едут на передовую, привозят гуманитарную помощь, встречаются с демобилизованными солдатами, приводят их в коллективы. А большая часть затаилась, выжидая, чем дело кончится.
Чувство Родины, патриотизма – иррациональное, его невозможно воспитать знаниями. Меньше всего стоит уповать на то, что придёт в класс или аудиторию учитель, расскажет, как жить правильно, и молодёжь поверит. Надо, чтобы они это прочувствовали. Для этого нужно приглашать в вузы людей, которые пришли с передовой. Не как я, в возрасте, мой пример не впечатляет молодёжь, а таких же молодых ребят, которые бы общались со студентами. Чтобы те поняли: крутой – это не тот обалдуй, который прыгнул откуда-то или ударил кого-то и снял это на видео. Что настоящий мужчина – это тот, кто взял оружие и защищал свою Родину, когда наступило время, а не тот, кто с перепугу сделал под себя и умчался в страны ближнего зарубежья.
И ещё одну истину я вывел для себя. Добро должно быть с кулаками, а лучше – с гранатомётом. Если ты берёшься делать добро, то делай его всеми способами и до конца. Вот это тоже нужно внедрять в сознание молодёжи.
«Предложили понести автомат»
– Вы пошли добровольцем, чтобы быть примером для студентов?
– Не только это, было несколько причин. Мы же не слепые, с 2014 года видели, как нашим украинским оппонентам очень понравилось безнаказанно убивать русских людей в Донбассе. Они оскорбили нашу историческую память, память Великой Отечественной войны, они культивируют бандеровщину, они бесновались и скандировали «Москаляку на гиляку». Я думаю, что только человек совсем уж беззаботный не предполагал, что когда-то последует ответ. Поэтому, когда началась спецоперация, я принял это как должное. К осени 2022 года, когда существенно изменилось наше положение в зоне боевых действий, появилось ощущение тревоги. Не оставляло чувство, что нужно быть там, чем-то помочь. Могу больше сказать: мне сидеть здесь было страшнее, чем находиться там. И в октябре 2022-го я принял решение, а в декабре пошёл записываться в добровольческий отряд.
– Как ваше решение восприняла семья?
– Жена расстроилась, но приняла спокойно. Она знала мой характер, мою позицию, здесь мы с ней едины. Дочь тоже приняла как должное. Коллеги большей частью поддержали.
– Как к вам относились молодые военные, видя, что вы намного старше?
– Было дело, предлагали бойцы: давай автомат понесу. Объяснил, что не нуждаюсь. Но они хорошие парни. Смелые все. Я ведь, принимая решение пойти в зону боевых действий, исходил не из возраста, а из самочувствия. Так получилось, что я сохранился к 60 годам. Так что наравне с молодыми пацанами ходил по полной выкладке.
«Готовность быть убитым – серьёзная штука»
– Что было самым сложным, к чему пришлось привыкать?
– Я прошёл службу в рядах Советской Армии, знал, что это такое, был готов жить даже под землёй в блиндажах. Привыкать пришлось к другому. Когда подходишь к передовой, то понимаешь, что тебя не просто могут убить, а тебя должны убить люди, которые находятся по ту сторону. Плюс всё вокруг летит, взрывается, свистит, что подтверждает намерения врага. И принять мысль, что ты вполне сейчас можешь оказаться на том свете, непросто. Такое переживали многие мои товарищи. Готовность быть убитым – серьёзная штука.
Кстати, звуки, которые мы считаем громкими, не идут ни в какое сравнение с тем, как разрывается снаряд «Града» или 120-миллиметрового миномёта. Чудовищный треск, скрежет, вой. И потом рванёт так, что ты подпрыгиваешь на 15 см от земли.
Из смешного. Когда на полигоне стрелял из РПГ-30 (противотанковый гранатомёт), было ощущение, что меня сзади по голове доской ударили. Физические ощущения совершенно из другой реальности. Но к этому привыкнуть было проще, чем к необходимости преодолевать страх смерти.
– Что произвело самое сильное впечатление?
– Люди. В книжках про войну описывают тех, кто готов идти, куда пошлют, и сделать то, что надо. Такие у меня были в подразделении.
– Минуты передышки случались?
– Да. Спасали книги. Собирал их везде, даже небольшая библиотека получилась. Перечитал очень много: Ильф и Петров, О. Генри, русская классика. Ты же там живёшь не один, а в команде по 8-9 человек. Иногда хочется отвлечься, уйти в себя. Книги помогают.
– Вы видели примеры героизма? Что в вашем понимании храбрость и мужество?
– Храбрость и мужество – это способность человека реально оценить угрозу и, преодолевая страх, выполнить задание. Без страха там ничего не бывает. Это естественно. Но остаются живыми больше те, кто преодолевает свой страх и выполняет приказ. Если человек начинает шарахаться, прятаться, пытаться исчезнуть, это плохо кончается. Но и с голыми руками никто в атаку не бросался. Всё проще и одновременно страшнее. Порой даже выполнение обычного задания – доставить боеприпасы на соседнюю позицию – превращается в геройский поступок. Ведь нужно идти под непрерывным огнём. Загрузили бойцу ящик в 20 кг, и он пошёл. Иногда нужно просто заставить себя пойти, потому что ты знаешь, что по этой позиции враг прицельно бьёт, есть раненые, убитые. Но ты же уже приехал, ты вызвался. Надо идти вперёд.
– Есть желание вернуться обратно?
– Да, периодически возникает такая мысль. Там остались люди, которые стали близкими. Это удивительный мир. Представляете, целое подразделение людей с автоматами Калашникова, на каждом висит по 120 патронов, и ведут самое мирное сосуществование. Боевое братство – не просто красивые слова. Но такие решения не принимаются на эмоциях. Нужно взвесить свои силы, быть уверенным в своём здоровье. А иначе ты в самый сложный момент можешь оказаться обузой. Вместо того, чтобы стрелять по врагу, люди вчетвером будут тащить тебя в тыл.
Юлия Борта,
Аргументы и факты
8 февраля 2024 г.
https://aif.ru/society/people/tam_vse_geroi_professor-filolog_rasskazal_o_svoey_sluzhbe_v_zone_svo
Позывной «Блондин»

Узнал о том, что Серёжа Гусаренко отправился добровольцем в зону СВО, уже, как говорится, post factum. Прочитал интервью с ним. Сразу написал, поздравил его, поблагодарил за Поступок. Попросил прощения за нашу так называемую «интеллигенцию», за конформизм, которым мы часто оправдываем своё равнодушие и слабость… Сергей ответил мне. В частности, были такие слова: «Александр Архипович, мы все учились у Вас. Чтобы быть как Вы…»
Потрясающий ответ. Значит, не зря я учил этих ребят с курсе Сергея Викторовича Гусаренко (в 1985 году был первый выпуск филфака в составе тогда ещё ПГПИИЯ). Учил их ведь, оказывается, не только старославянскому и древнерусскому языкам, но и основам того менталитета, языкового сознания, которое объединяло и объединяет все восточнославянские этносы, уже более тысячи лет назад ощутившие себя единым русским языком (языкъпо-древнерусски – это в том числе и этнос, народ). Выходит, в древнем кириллическом тексте черпали истоки любви ко всему русскому – генетически и нравственно! – а главное, к Отечеству, сознания быть готовыми всегда встать на его защиту. И не зря я, оказывается, общаясь со студентами, будущими призывниками, вспоминал про свою службу в армии, в погранвойсках, говорил о «сержантской закваске».
Не знаю, какой был у Серёжи на поле боя позывной. Может, «Профессор» или «Филолог»… Я бы на его месте взял – «Блондин». Так его, помню, звали между собой однокурсники в далёкие уже 80-е годы прошлого века. Кстати, если не ошибаюсь, и сейчас зовут. Это ведь – любя, от сердца. Да Сергей таким и остался – светленьким, открытым, искренним и ранимым, эмоциональным и влюблённым в филологию, в русский язык, в свою Родину. Блондины, в моем восприятии, должны быть русскими…
Так случилось, что в течение всей его – надеюсь, ещё долгой-долгой! – жизни мы часто общались по работе. Я часто бывал в Ставрополе, в университете, где Сергей Викторович блестяще защитил кандидатскую и докторскую, стал профессором, руководил аспирантами, заведовал кафедрами, даже возглавлял факультеты. Часто он приезжал на родной факультет уже как председатель ГАК. Он принёс и приносит по сей день много пользы как высококвалифицированный и эрудированный специалист. Но главное – русский характер Сергея Гусаренко. Его ментальный стержень… Поэтому когда нужно за Родину постоять – так кто же, как не такие ребята…
И если напишу о Сергее большой очерк – непременно назову опус так: «Позывной “Блондин”». Потому что в центре будет главное событие в жизни моего ученика. Его Поступок…
А. А. Буров,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования ИПРиМ
Газета ПГУ «Наш университет», № 2-3 (1844-1845), февраль-март 2024 г.
Человек с несгибаемым стержнем

В федеральном выпуске газеты «Аргументы и факты» от 8 февраля текущего года опубликован материал о выпускнике нашего вуза, профессоре филологии Северо-Кавказского федерального университета Сергее Викторовиче Гусаренко, который, несмотря на возраст, добровольно пошёл на фронт в зону СВО, отслужил полгода, был награждён государственной наградой.
Сразу принял решение опубликовать этот материал на страницах газеты «Наш университет». Воспоминаниями о своём студенте откликнулся на него доктор филологических наук, профессор кафедры словесности и педагогических технологий филологического образования ИПРиМ Александр Архипович Буров.
Выяснилось, что в ПГУ трудятся одногруппники героя этих публикаций – проректор по академической политике, контролю качества образования и информатизации, доктор исторических наук, профессор Юрий Юрьевич Гранкин и директор Института переводоведения, русистики и многоязычия, доктор педагогических наук, доцент Ирина Борисовна Федотова. Желание побольше узнать о С. В. Гусаренко натолкнуло на мысль побеседовать с ними об однокашнике.
Они знакомы с героем публикации с 1980 года: вместе поступали, а затем учились на факультете русского языка как иностранного в ПГПИИЯ.
Это был первый набор. Чтобы стать студентом на факультете РКИ ещё до вступительных экзаменов надо было получить рекомендации бюро городского и краевого комитетов комсомола. Было это непросто. С 1981 по 1983 год я работал вторым секретарём Пятигорского горкома ВЛКСМ и могу свидетельствовать: рекомендацию получали только самые достойные – отличники, общественники, идейно стойкие ребята и девушки. Каждую кандидатуру рассматривали индивидуально, беседовали основательно.
– На самом деле, это было именно так. Я тоже через это прошла, – поделилась Ирина Борисовна. – Приехала сдавать документы, как в обычный вуз. Оставалось три дня до экзамена, и тут мне сказали, что нужна выписка из постановления бюро обкома комсомола с соответствующей рекомендацией. У меня были определённые заслуги в Грозном, где я жила до поступления, и Чечено-Ингушский обком ВЛКСМ дал мне соответствующий документ. Кстати, мальчики пользовались преимуществом, это было прописано в соответствующих документах, предпочтение давали также тем, кто отслужил в армии срочную. Несколько человек пришли на учёбу после армии, некоторые из них даже на экзамены в форме приходили. И получилось, что на курс набрали 37 мальчиков и 13 девочек. В нашей группе были только мальчики, из девочек – я одна.
Нас разбили на пять групп, по десять студентов в каждой. Я училась в третьей, «французской» группе, Сергей Гусаренко – в четвёртой, тоже «французской». Кроме этих групп ещё две было «английских» и одна «испанская». С английским языком ехали работать в Индию, с французским – в страны Африки, а все «испанцы» побывали на Кубе, и не раз.
– Мы оказались с ним в одной группе, изучали французский язык, и три года жили с ним в одном общежитии, в одном блоке, – вспоминает Юрий Юрьевич. – Всё делили пополам, всё было общее. Общие интересы у нас с ним были всегда не только в учёбе, но ещё и в спорте. Мы активно занимались гандболом. Сергей играл на передней линии, всегда в атаке, я на воротах стоял. Это тоже нас сближало. Ну и, конечно же, нас сближал Дамхурц. Мы были там и летом, и зимой. Первое наше близкое знакомство произошло, когда мы, только поступив в институт, поехали в Дамхурц в составе стройотряда.
– Кто преподавал у вас?
И. Б.: Думаю, к составу преподавателей тоже особый подход был. Первый наш набор осуществлял Леонид Никитич Исаев. Ему это поручили как декану. И он сделал ставку именно на опытных преподавателей.
Французский язык на первом курсе вела у нас Маргарита Константиновна Теплова. Она была замечательным преподавателем! Именно она нам «поставила» фонетику. Для французского это особо важно. К нему в полной мере относится определение: язык – это музыка.
Кстати, у Сергея очень хорошо получалось, потому что у него музыкальный слух.
Помнится, Маргарита Константиновна никогда нас не хвалила. Очень сдержанно оценивала, и мы думали, что мы совсем слабые в языковом, фонетическом плане. Как-то её пришла замещать Галина Юрьевна Алиева. И она так нас похвалила, что нам аж неловко стало. Тогда мы поняли, что чего-то стоим. Маргарита Константиновна в нас очень много вложила. Она заставляла нас каждый вечер проводить с наушниками в фонозалах, работать над интонацией. И, конечно, это давало свои плоды.
А современный русский у нас вели сам Леонид Никитич и Александр Архипович Буров.
Александр Архипович как раз пришёл в институт после армии и всегда повторял: «Я вам покажу сержантскую закваску». Мальчики на курсе преобладали, и если кто-то из них что-нибудь скажет шёпотом, то этот басок звучал на всю аудиторию, и Александр Архипович старался нас приструнить такой угрозой.
Павел Кондратьевич Мильшин вёл у нас лексикологию современного русского языка – эрудит и выдающийся профессионал. Он был фронтовиком, имел ордена и медали. Спокойный, рассудительный.
Благодаря этим преподавателям многие ребята увлеклись современным русским. Собственно, Сергей Викторович впоследствии защищался именно по этому предмету.
Литературу нам преподавала Нинель Михайловна Келейникова. Она – выдающийся эрудит. У неё была своя метода наведения порядка в аудитории: благодаря врождённой интеллигентности она никогда не повышала голоса, считала, что это ниже достоинства преподавателя.
Учиться было очень интересно.
А потом парни строили корпус филфака. Мы ведь начинали учиться на первом этаже корпуса малых аудиторий, а позже наш корпус был построен в том числе нашими ребятами-однокурсниками.
– В 60 лет пойти добровольцем для участия в СВО не каждый решится. Как вы думаете, почему он решился?
Ю. Ю.: Я думаю, что он решился не в 60 лет. Все предыдущие 60 лет жизни так складывались… Мы выросли в другую эпоху. Неслучайно же он пошёл после окончания института в армию, хотя выпускников с таким дипломом, как у нас, тогда, в 1985 году, не призывали. В Советском Союзе началась перестройка, холодная война заканчивалась, и считалось, что такая большая армия, как в СССР, больше стране не нужна.
Дипломы нам выдали, из общежития выселили. А дальше куда? В военкомат! В военкомат приходим, а нам говорят: «Вы нам не нужны». И с нашего курса лишь несколько ребят служили. Один из них – Сергей Гусаренко.
Высокий, атлетически сложён, спортивен. Гандбол, которым увлекался, – сложная, контактная игра, требующая серьёзных физических усилий.
У него великолепные физические данные, 47-й размер обуви. Помню его армейскую фотографию. Прислал её мне и написал, что для него на складе не было обуви по размеру, а единственные ботинки, которые нашли, были погрызены то ли мышами, то ли крысами. Вот и на фотографии он не в сапогах, а в ботинках, на одном носка нет: грызуны поработали.
Сергей служил в самой южной точке Советского Союза, в Кушке, у границы с Афганистаном.
Он всегда был лидером. Был комсоргом курса, и это также говорит о его лидерских качествах.
– Каким он был студентом? Что любил, чем увлекался?
И. Б.: Сергей с первого курса получил прозвище «Блондин». У него на самом деле были светлые волосы. Если подобрать ключевые слова, которые его характеризуют, то это «лингвистика», «французский язык», «русский язык», «песни», «гитара», «Дамхурц», «стройотряд», «сцена». А ещё «дружба» и «студенческое братство»… В этом весь Блондин. Жизнелюбивый, влюбляющийся, увлекающийся…
Вокруг него всегда кипела жизнь. Если ехать в «Дамхурц», то он первый – в июне, в стройотряд. Там многое построено их руками. А потом – летний «Дамхурц»…
Мы его просто очень любили. Естественно, все симпатии девчонок были на его стороне. Но потом он познакомился в «Дамхурце» со своей будущей женой. Она училась на факультете испанского языка. И до сих пор они с Мариной вместе.
Позже он написал книгу о наших студенческих годах. Конечно, фамилии и имена там изменены, но все узнаваемы: преподаватели, однокурсники. Книга с юмором написана, она была выложена на какой-то интернет-платформе, и я её читала онлайн.
Всегда хорошо учился. Он не зубрила какой-нибудь, у него от природы такой талант: песни – наизусть, французская фонетика – легко…
Он до сих пор интересуется французским. Нашла в сети его статью «Отражение событий на Украине в материалах французской газеты «Монд». Это он написал ещё в 2014 году. Понятно, что читал эти материалы в подлиннике, по-французски. И анализировал.
– Кстати, что любопытно, он ведь не только доктор филологических наук, профессор, специалист в области теории языка, – добавляет Юрий Юрьевич. – Он ещё разработал и в 2003 году запатентовал «Запирающий механизм боевого стрелкового оружия под мощный патрон с цилиндрической бесфланцевой гильзой», который повышает надёжность, кучность стрельбы и мощность стрелкового оружия. Поищите в интернете: там есть сведения о его патенте.
– Да, хороший специалист в области теории русского языка…
– Ну, вот такой он разносторонний человек. Любит конкретику. Вот патент – это конкретно.
Сергей из простой рабочей семьи, родом из села Кочубеевского. Всего в жизни достигал сам. Стал кандидатом, доктором наук, заведовал кафедрой.
У нас курс довольно дружный, и в одной из социальных сетей я веду наш общий чат. Поздравляем с праздниками, с днями рождений, рассказываем о радостях, делимся новостями. В нём порядка 20 человек, и, что удивительно, их число растёт.
О том, что Сергей ушёл на СВО, узнал совершенно случайно. В день его рождения разместил традиционное поздравление. В ответ – тишина. И только потом от наших коллег из Северо-Кавказского федерального университета узнал, что профессор Гусаренко ушёл добровольцем. Виделся с его супругой Мариной. Она, конечно, переживала очень сильно. Но она просто знает своего мужа, знает, что есть в нём такой несгибаемый стержень. «Раз он решил, значит решил! Значит так надо! – говорит она. – А Сергей знает, что у него есть тыл – я, дочь, внучка».
Такой у него характер, жизненный настрой. Поэтому и решил, что самое правильное его место – там.
После возвращения с СВО Сергей не изолировался, присутствует в нашем чате, мы переписываемся. А как только в прессе появилась публикация о нём, я разместил её в нашем сообществе. Он спокойно на неё отреагировал, стал общаться, комментировать.
И. Б.: Да, о том, что он отправился на СВО, мы узнали только через несколько месяцев. В нашей группе в одной из социальных сетей накануне его 60-летия начали Сергея поздравлять. А в ответ – ни слова. Мы напряглись: «Почему Блондин молчит?» А позже выяснилось, что перед Новым годом, накануне юбилея, он ушёл добровольцем на СВО: поторопился, чтобы успеть до 60-летия: вдруг не возьмут!
Ребята выложили такие сообщения, что, мол, гордимся, Блондин, молодец! Полгода он не был на связи. А когда вернулся, написали ему слова восхищения и благодарности. Но он очень скромно отреагировал: мол, просто посчитал, что так нужно!..
Он не зазнался, хотя довольно статусный человек, доктор филологических наук, занимает высокие позиции в Северо-Кавказском федеральном университете. При этом очень простой, доступный, всегда такой же добрый, тёплый, радушный.
Вот такими людьми университет гордится. По праву.
Беседовал
Геннадий Выхристюк
На фото: нижний ряд, крайний справа — С. В. Гусаренко;
второй справа — Ю. Ю. Гранкин;
третий ряд, крайняя справа — И. Б. -Федотова;
второй ряд, в центре — Л. Н. Исаев
Издание ПГУ «Журнал, открывающий мир», № 31-32, 2024 г.


